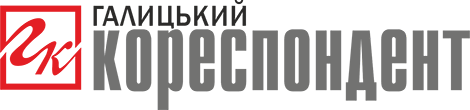Вхідні двері до малосімейки Парфьона зовні розмальовані його химерами на моторошному бордовому тлі. Дверного вічка нема, але там, де воно могло б бути – намальоване око. Без сумніву, ним господар бачить усіх, хто за дверима.
Отвір для ключа – справжній. Свій ключ він носить на шиї, як хрестик. Каже: якщо вірити ювелірним магазинам, Христос був розіп’ятий на ключику.
Ключ на шиї висить під брелком, яким слугує рибальський поплавок, тому ключ ніби грає роль наживки, як каже Парфьон – роль “опариша”. Перший стан, в якому опиняєшся, потрапляючи всередину – це і справді стан риби – прісноводної, що заблукала у воді морській. Незрозуміло, що тут до чого: не те щоб безлад, радше все складено з “головоломкостей”, які ніби декларують, що життя – то такий складний стан, в якому можна безвихідно заплутатися навіть на шести метрах, єдиних твоїх житлових метрах. Сприяє цьому різкий, ще більш незрозумілий запах, який кожну спробу сконцентруватися підхоплює і приязно відносить за хибним слідом. Потім, коли вийдеш на повітря і мозок поновиться у своїх правах, мусиш згадати, що цей самий запах чув від парфьонових картин. Спроба осмислити їх теж заводить кудись не туди.
Парфьон пояснює, що не підписує свої роботи, бо вбачає у цьому марнославство. Натомість залишає на них непідробний знак – запах своєї атмосфери і рук. Бо справжній автор має впізнаватися за всім, окрім підпису.
На півкімнати – ліжко, над ним – якийсь згорблений святий у повен зріст, намальований сірим абрисом просто на стіні. У руках старого – великий хрест, що підпирає стелю, а може, й дах усього будинку: квартира – на останньому поверсі. У сумі це не квартира, а капличка якоїсь особливої парафії. Його картини часто називають іконами: мабуть, в цих стінах вони “освячуються” автоматично.
Другу половину кімнати займає стіл, на ньому – шматки хліба і риби, тетра-картонки від червоного вина й білого соку, фарби, ліки і ноти.
За столом – підвіконник, на ньому – кілька шарів усього для голови: пір’я, бандани, блайзери, панамки, окуляри, капелюхи, прищепки, брошки й кокарди, листки газет і бинти…
Над підвіконником – вікно на всю стіну. За ним людно тільки вночі: навпроти – “нічна дискотека”. Там Парфьона кілька разів побили, тому вже понад два роки на дискотеку він не ходить. Кров і біль – єдине, чого боїться. Занадто сильно. Мабуть, це психологічна компенсація відсутності страху перед невлаштованістю чи суспільним несприйняттям епатажу.
Він не народжений боротися з хворобами – як тепер прийнято – “до останнього”. Навпаки, швидко їм здається, колаборує і переходить на їхню сторону, мотивуючи, що його любов до себе – беззбройна, а слабкі його сторони – сильніші за сильні.

– Коли ти останній раз виїздив звідси, провітрювався від міста?
– С возрастом, когда все, что ты способен понять, уже понял, когда пытливость сменяется пыхтливостью, самое интересное пооисходит внутри тебя, особенно, когда обрастаешь болезнями. Потому копаться там интереснее даже, чем в мусорниках элитных районов Брюгге. Ездить надо, пока есть, что понять, пока в чем-то надо и стоит разобраться. А моя старость – это безразборный период – как жизнь китайского неразборного утюга.
Вот у меня давно нет ни газа, ни чайника. Так я, пока пил кофе, заваривал его в воде из утюга – получался самый лучший, запаренный.
Самое двуличное – это твое тело: оно перед тобой расшаркивается, балует, а в это время за твоей спиной и за твоим брюхом – то есть между ними – вынашивает червя, который тебя сожрет. То есть его тактика и стратегия – противоположны. Потому от половины жизни не надо жить в расчете на него, а именно это и означает – жить сегодняшним. Иначе глупо: у тела свои планы, мы их не знаем.

– Люди, які знали тебе з молодих років, розповідають, що ти був дуже успішний, лідер у всьому, але не прижився. Чому? Не можна ж усе валити на спирти: Коломойський теж випиває…
– А я и не валю. Просто, если ты все делаешь сверх нормы, то и разбазариваешь тоже сверх нормы. И если баланс качнулся в минус, то его уже не остановить, маятник перфекциониста движется по ровнейшей тончайшей линии, на его четком пути оказывается всё, скурпулёзно выстроенное тобой.
Но хорошо всё, что хорошо вспоминается. Я сначала правильно расставил все акценты в жизни, но закрепил их ложным закрепителем. И акценты попадали. Нагибаться, поднимать не захотел: все равно все земное делится на Божий замысел и Божий вымысел. Вот появление тебя – это Его замысел, а все что ты делаешь – Его вымысел. А все, что Он делает за твоей спиной – это Его промысел.

– Ти “зраджуєш” не тільки оздоровленню, а й музиці: зробився художником, не граєш…
– Нет, я рисую, потому что есть люди, способные воспринимать музыку только глазами.
– Що ти малюєш? Хтось стверджує, що портрети, хтось бачить душі…
– Это бред, души не любят рисоваться. И не играют в прятки, а только ускользают от воображения, человеческого представления о них. А мои – играют. Душа не умеет возвращатся, если покидает – то навсегда – для этого даже не обязательно умирать. Мои же возвращаются.
Чтоб понять, что я рисую – представь простую вещь: лицо одного человека и то же лицо, например, после пережитого потрясения или 25 лет спустя. И представь фактурную плёнку со всей разницей между ними, которую можно наложить на молодое лицо, чтоб из него получилось старое.

Так вот, мои картины – это и есть эта плёнка, наложенная на картон, с отпечатком, скажем, пережитых за 25 лет эмоций и содроганий, но прежде всего – потерь. Сколько бы мы чего-то ни приобретали с возрастом – мы несем потерю. Если жизнь просмотреть на очень большой скорости, то станет очевидно, что вся она – это торжественный пронос потери: как будто на старте тебе дали пробитое в многих местах цинковое корыто с водой, и даже если к финишу ты его принесешь золотым, оно все равно будет почти пустым. Максимум – заслужишь апплодисменты. Но вряд ли успеешь их услышать.
Всему живому свойственно теряться. Тот, кто никогда не теряется – недостаточно живой. Хотя и занимает много пространства. Живому же много не надо: оно весомо и так. Ему хочется, но не надо. А неживому ничего не хочется, но всего надо.

В общем, прообразы моих рисунков – это не лица, а несмываемые наслоения. Я рисую разницу, и считаю глупейшим вопрос “какая разница?”
Это лица, с которых смыты первоосновы: врожденные младенческая непорочность и первородный грех, весь этот хюманитарный стартап, который конвоирует нашу мимику всю жизнь. Даже после того, как нами ценой больших потерь уже обретена пресловутая устойчивая модель неустойчивого поведения.
И, возможно, внешне отмолаживаться человечество научится, только когда найдет технологию, как срывать эти “мои рисунки” со своих лиц – как в детстве мы отклеивали, не повредив, иностранные марки от конвертов – над парами кипящего чайника.

И когда изобретут такие парЫ для лица, тогда на этих всех парах и сможет мчаться обратно к нам удравшая было молодость.
Потому эти работы, можно сказать, научны. Возможно, как-то так выглядела бы вся наука, если бы её делали правым, интуитивным полушарием, которое накапливает чувственные наблюдения, а не расчетливым прохладным левым.
А старение – это способ беспрерывного ламинирования поверхности человека очень тонкими слоями. Но в реале – если вдруг к вам начнет возвращаться молодость, граничащая с пропущенной в своё время детскостью – то это и будет маразм.

– Твої малюнки “тверезої фази” майже пастельні, привітні й рожево-волошкові, а всі інші – хардові, з твердим контуром і червоно-чорним лейтмотивом…
– Это – в доказательство, что рисую не души: душа не зависит от состояния телесных дел. (Парфьон засміявся, але останнім часом він дуже схуд, і зморшки під його вогкими тепер очима – мов водостічні ринви: вони відводять його сміх, заземлюють, тому спочатку здається, ніби він плаче).
– Все ваши жажды, здоровых трезвых людей – постановочны. Я знаю, потому что я трезвый и нетрезвый – это два разных не связанных человека – ничем общим, разделенных забытьем, например, сном.

– Вони – як “велич моменту”, яка ніколи не приходить із цим самим моментом, вони ще ніколи не бачились.
– Да, и потому я когда-то решил установить между ними связь, передавал сигналы, послания, которые оставляли они друг другу: один – ночью, другой – днем. Жаль, эпистолярная часть сигналов не сохранилась – можно было б издать. За ночь наедине вбираешь в себя много тайн.
– Вийшла б поема, добра поезія – це нерозпізнане плетиво розмислу з маренням.
– Я полюбил пить наедине, когда компании начали вырабатывать во мне пользовательское отношение к способности разговаривать. А близлежащие – это еще не близкие, не надо путать.
Но и сейчас я не против пьянства, но когда оно процесс не отлаженный, а саморегулируемый: это если в нем подгазовываешь удовлетворением собой, а притормаживаешь недовольством собой. Аж до полной остановки, чтоб дать отдышаться мозгу.

– Ти родом із Ленінграда і ровесник Путіна. Ви не перетинались?
– Есть люди, которые не сливают за собой воду даже в разговоре. Я из той тусовки, где сливают и моют руки, потому не пересекались.
Или вот, как все звери, кроме всех делений по виду, способу питания и размеру, делятся еще на тех, кто с прикрытым анусом и кто с открытым. И это деление – важнее, чем по половому признаку. Так вот, Путин – существо с открытым ментальным анусом. Точнее, прикрывает его взвод снайперов.
А под ним – нынешняя Россия. Какой может быть страна, если каждый день над ней восходит такое солнце?
Розмовляв Ростислав Шпук, блогер, фотохудожник, бізнесмен